
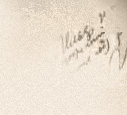
 |
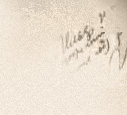 |
|
|
|
Создатели великого комбинатораЖизнь Ильфа и Петрова исследована если и не досконально, то во многих живописных подробностях, щедро рассыпанных в веселых и нежных мемуарах бывших одесситов и знаменитостей газетной и литературной Москвы. В самом начале шестидесятых годов произошел биографический взрыв — в течение всего трех лет вышли поочередно книги об Ильфе и Петрове, написанные А. Вулисом, Б. Галановым и Л. Яновской, а также сборник воспоминаний о них. Правда, после этого капитальных работ больше не было, но воспоминания продолжали появляться. Так что нет нужды затевать все заново и рассказывать, как Илья Ильф (1897–1937) и Евгений Петров (1903–1942), происходя из одного города, названного ими в «Золотом теленке» Черноморском, и не зная друг друга, отправились порознь в столицу, где и встретились в конце концов, начав совместное существование в литературе, обессмертившее их имена. Есть перечни дописательских профессий каждого: чертежник, телефонный монтер, токарь и статистик — Ильф; корреспондент Украинского телеграфного агентства и инспектор уголовного розыска — Петров, ставший еще при жизни (редкий случай!) прототипом персонажей двух повестей: «Белеет парус одинокий» (1936) своего старшего брата Валентина Катаева, где он предстает трогательным и наивным Павликом, и «Зеленый фургон» (1938) Александра Козачинского, в которой действует тоже поначалу наивный, однако уже отчаянный агент угрозыска Володя Патрикеев. Известно, как они жили в Москве до своей счастливой встречи и после нее, где печатались и служили, куда и зачем ездили с корреспондентскими билетами, начиная с Нижнего Новгорода и кончая Соединенными Штатами Америки. Ими самими, их биографами и друзьями раскрыты истории создания «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и «Одноэтажной Америки». Сравнительно со многими коллегами их жизнь представляется хотя и не совсем безоблачной, но в общем благополучной. Они, к счастью, не прошли сквозь строй проработчиков со шпицрутенами политических обвинений, как Борис Пильняк, Михаил Булгаков или Евгений Замятин, по ним не ударяли крупнокалиберными постановлениями, как позднее по Михаилу Зощенко, их миновали черные дыры тюрем и лагерей, в которых сгинули сотни писателей. Всего этого (так уж повезло) не было, и трагичность раннего ухода имеет другие причины: туберкулез у Ильфа и авиационная катастрофа у Петрова.
Но есть эпизоды менее известные и громкие, характерные и для времени, и для их ощущения этого времени. Они неравнозначны, однако каждый
В самом конце 1935 года (дата на титуле 1934 — неверна) в издательстве «История фабрик и заводов» вышла постыдная для отечественной литературы книга под редакцией М. Горького, Л. Авербаха и С. Фирина —
В аннотации говорилось: «История строительства В составе литературного десанта, высадившегося на строительстве в 1933 году, были и сатирики — Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. Первый из них, не участвуя в главах, коллективно написанных, дал в сборник художественную обработку рассказа крупного международного вора — «История одной перековки». Соавторы же вообще не работали для книги, ограничившись небольшой заметкой в подборке «Огонька» (1933, № 20) «Писатели рассказывают о Беломорстрое». Сдержанность, отсутствие славословий, на которые столь щедра была эпоха, вообще характерны для Ильфа и Петрова, что очевидно и для тех текстов, которые широко известны, и для материалов данного сборника. Но при этом — здесь не может быть двух мнений — они без колебаний были преданы идее социализма, несмотря на все ее чудовищные извращения, и для них не существовало вопроса, как относиться к Советской власти. А заблуждались иногда, принимая ложные посылы за истину, не они одни, далеко не одни. Это особенно следует учитывать при чтении сельских сцен или рассуждений о крестьянстве, которые встретятся в этой книге. Ильф и Петров были людьми сугубо городскими, деревню и ее истинные проблемы не знали, вполне доверяя тому, что содержалось в официальных установках, определявших направленность и тон газетных кампаний, критерии отбора фактов и — главное — их толкование.
Отсюда — лучезарное братание со стариками, строящими мост, в сценарии «Однажды летом», неожиданно описанное с в За всем этим ощущается твердая убежденность в необходимости проведения жесткой линии на «ликвидацию кулачества как класса». Драматические реалии, кроющиеся за этим лозунгом, или были им неведомы вовсе, или же воспринимались в том искаженном свете, который превращал неправое в правое. Сколь ни хочется мне, чтобы любимые писатели во всех ситуациях выглядели образцово, не сказать об этом нельзя. Как и о том, что в комедии «Богатая невеста», изобилующей очень смешными сценами, они вместе с Валентином Катаевым пошли во многом по пути, на котором крестьяне превращались в лубочных пейзан, купающихся в изобилии и славе. И это — всего через два года после страшного голода! Конечно же, зажиточные колхозы существовали, они сами их видели во время поездки по югу Украины, были и ордена отличившимся, и портреты в газетах, и встречи в Кремле с «отцом народов». Показать товар лицом у нас умели всегда, беда лишь в том, что товара этого было мало, что исключения выдавались за правило. А искусство с имманентно присущей ему особенностью превращать единичное в типическое способствовало этому. Так, вскоре после пьесы Ильфа, Петрова и Катаева появилась еще одна «Богатая невеста» — фильм Ивана Пырьева на сходную тему. Идеализация колхозной жизни, превращенной в веселую сказку, успешно началась, ширилась, вытесняя быль. Показательно: уже через два года после опубликования комедии трех авторов, именно в год выпуска пырьевской картины (1938), цензура начала ставить барьеры на ее пути к сцене как раз потому, что идеализация представлялась ей неполной. Второй эпизод, о котором я хочу рассказать, скорее, комического толка, хотя и за ним стоит проблема. Не раз и не два Ильф и Петров высмеивали видимость общественной активности, мастеров создавать которую расплодилось начиная с двадцатых годов великое множество. Грохот починов самого разного свойства, под который демагоги зарабатывали политический капитал, все усиливался. Сомнительным, более того, заранее обреченным на провал, на то, чтобы покалечить судьбы многих, выглядело в глазах разумных людей бурно развивавшееся движение «призыва ударников в литературу». Считалось, что главное — передовая идеология, а писательскому мастерству можно и научиться: не боги горшки обжигают.
В саботажников важного дела «В последнем номере «Литературной газеты», в статье о Вечернем рабочем литературном университете выделено черным шрифтом мрачное, даже леденящее душу сообщение о том, что Кольцов, руководящий кафедрой сатиры, а также Ильф и Петров, преподающие сатирические дисциплины, не только не включились в педагогическую работу, но даже и ни разу не были в университете. Итак, перед читателями разворачивается ужасающая панорама полного разложения в лагере сатиры. Между тем, объективность требует внести некоторые поправки. Ни Кольцов, так сказать, декан факультета, ни Ильф, ни Петров, некоторым образом профессора сатирических наук, не нанимались на работу в университете. Об учебной программе и характере университета они впервые узнали из той же статьи, где преждевременно сообщается об их преступлениях. В силу этих обстоятельств поведение названных деятелей науки — Ильфа, Кольцова, Петрова — не должно казаться таким предосудительным, как об этом, столь же поспешно, сколь безответственно, заявил автор статьи. Мих. Кольцов, И. Ильф, Евг. Петров». Третий эпизод — посерьезнее. Хотя РАПП и была ликвидирована, а методы ее хозяйствования в литературе, более напоминавшие полицейские облавы и судебные процессы над инакомыслящими без права защиты, чем равноправные писательские дискуссии, публично осуждены, дух нетерпимости, повадки заушательской критики, ставящей целью расправу с неугодными или конкурентами методами публичного доноса, сохрани лись, продолжали культивироваться. Трагический парадокс состоял в том, что чаще других яму ближнему рыли те, кто очень скоро сами оказывались в ней. Так погиб в 1938 году драматург Владимир Киршон. Но за три года до этого он еще был на коне. Защищаться приходилось другим. Поэтому появилось «Письмо в редакцию», напечатанное «Правдой» (1935, 14 марта): «В своем выступлении на пленуме Союза советских писателей В.
Киршон сообщил, что «мы наблюдаем и явления, чуждые нашей советской
природе… Это «Дама с камелиями» в театре Мейерхольда,
это «Египетские ночи» в Камерном театре, «Под куполом
цирка» в Ни одного довода в подкрепление этого, самого тяжелого обвинения, которое только может быть предъявлено советскому писателю, В. Киршон не счел нужным привести. Наша пьеса Под куполом цирка» может нравиться или не нравиться. И не дело авторов вступать по этому поводу в спор с критиками. Но объявление пьесы «чуждой» есть политическое обвинение. Оно ложно, и мы решительно его отвергаем. И. Ильф, Евг. Петров, В. Катаев». Этот случай выводит нас к теме, на которую долгие десятилетия писать было нельзя. В тридцать пятом году такого рода политическое обвинение еще могло и не сыграть роковую роль в судьбе тех, кому оно адресовалось, тем более что опровергнуто оно со страниц «Правды», защитившей своих фельетонистов. К тому же вряд ли перьями соавторов в этом эпизоде вообще управлял страх — не в том они находились положении. Но как и почему он возникает, писатели, думается, понимали достаточно ясно. Две современные цитаты. «Как же «А что мне за это будет?» (О. Малютин, «…Все институты управления обществом смешались в массовом
представлении в одно понятие — «начальство», а
крепко засевший страх перед ним, подогреваемый все еще нередкими случаями
произвола и беззакония, не дает людям возможность осознать свои права
и бороться за них… И что печально — в народе выработалось
молчаливое признание правоты любого начальника, боязнь борьбы за свои
права (как бы хуже не вышло»), доисторическое смещение всех административных,
хозяйственных, юридических, партийных и всевозможных общественных органов
в Теперь — цитата давняя. «Они боялись всех членов правления, управдома и даже дворника. Они были убеждены, что каждый из этих людей может сделать все: может дать комнату и может ее отобрать. Во всех они видели начальство». Это Ильф и Петров. Их очерк «Кандидаты» 1933 года.
Конечно, здесь нет той политической остроты и тех смелых обобщений,
которые позволены авторам сегодняшнего дня. Нет, да и не могло быть.
Но суть та же. Правда, этот точный анализ психологии рядовых людей дан,
как вы увидите, прочитав очерк целиком, скорее в осудительном ключе.
По их мнению, вполне справедливому, если отвлечься от реалий той эпохи,
следовало В 1929 году Евгений Петров поместил в «Женском журнале»
(№ 8) фельетон «Письмо прелестной незнакомке». Существо
дела сводилось к тому, что некая подписчица, покритиковав журнал за
недостаточное внимание к моде, добавляла: «Назвала бы себя и свой
адрес, чтобы иметь удовольствие вступить с вами в переписку, но боюсь
вызвать на себя Анекдотично? Несомненно. И все же случайно ли, только ли по глупости пришла ей в голову столь странная мысль? Вопрос чисто риторический. Страх уже сидел в людях, все чаще пустяковые поступки или проступки приводили к неадекватным им грозным последствиям. Страх обретал трансцендентность, переставал контролироваться разумом, давая пищу юмористам, как это письмо незнакомки. Петров написал очень смешной фельетон. Он был молод и полон оптимизма. К концу следующего десятилетия над этим уже не смеялись. Я хочу обратить внимание читателей на рассказ Ильи Ильфа «Возвращение блудного сына», рассказ нежный и тревожный. И ему, и Петрову был присущ и талант лирический, наиболее полно проявившийся к концу соавторства в маленькой повести «Тоня». Примерно тогда же Ильф говорил об их желании перейти в иной регистр, близкий к чеховским «Душечке» и «Крыжовнику». Но лирика вторгалась уже в «Золотого теленка». Вспомните неожиданный монолог Остапа: «Молоко и сено… что может быть лучше! Всегда думаешь: «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в нашей жизни…» А первый вариант финала — «Адам сказал, что так нужно», в котором торжествовала любовь? Правда, он был отвергнут во имя идеи, представлявшейся писателям бесспорной
и более важной. Им требовалось показать крах Остапа, крах философии
денег в новых социальных условиях. И они обрекли его, новоявленного
миллионера, на мытарства и скитания, окончательно утвердив в ранге «лишнего
человека». Как говорил он Но был ли праздник? «Начиналась суровая эра пайков и закрытых распределителей, констатирует критик Б. Сарнов (Московские новости. 1987. № 38).— Уязвимость коллизии, изображенной Ильфом и Петровым, не в том, что она далека от жизненной правды. Уязвимость ее прежде всего и главным образом в том, что новый принцип распределения рассматривался ими как благо, как полное торжество социальной справедливости. В то время как на самом деле этот принцип, как сейчас особенно ясно видно, был уродлив и порочен в самой своей основе. Нет, задуман он был как благо. Первоначально это была попытка установить социальную справедливость. Компенсировать презираемому Остапом ударнику, получающему 120 рублей в месяц, его мизерную зарплату, уравновесить ее льготами. Но вскоре эти самые льготы превратились в инструмент установления самой вопиющей социальной несправедливости». Однако, если все это особенно ясно видно теперь, если отрицательные результаты замышленного блага проявились в непререкаемой своей полноте позднее, то, мне думается, речь вернее вести не об «уязвимости коллизии», а в худшем случае о недостаточности дара предвидения, о заблуждении, бывшем почти всеобщим. Экстраполяция сегодняшнего нашего знания и уровня понимания прошлого на шестьдесят лет назад смещает акценты и путает хронологию оценок. Это к слову. Вернемся к рассказу Ильфа о блудном сыне. Его невеселая
ирония, его лиризм, укрытый за грустной улыбкой, трогательная хрупкость
и Здесь даже не страх, а некая фатальная обреченность, втиснутая в сознание противоестественная готовность согласиться с необходимостью — во имя счастья грядущих дней — разделения общества, провозгласившего свободу и равенство, на «чистых» и «нечистых». Парадокс: Библия, объявленная книгой обмана, высмеиваемая на всех перекрестках, предоставляет самую удобную формулу — потомки отвечают за грехи отцов. Но довольно об этом.
Сатира всегда любила провинцию, любила, понятно, Однако, провинция у сатиры по большей части условная, без называния места действия. Тут своя география — с городами и селами, которых нет на карте, или же если реальными, то строго зашифрованными. Тогда, создав территорию абстрагированную, можно было решиться на самый причудливый гротеск, размахивать ювеналовым бичом изо всех сил. А читатель волен гадать, в каком графстве находится открытый мистером Пиквиком Итенсуилл, где расположена губерния, по которой вояжировал Чичиков, существует ли город, поименованный Марком Твеном Гедлибергом, сколько верст от Москвы до платоновского города Градова. Ильф и Петров верны традиции. Они нанесли на сатирическую карту уездный
город N. поселив там Ипполита Матвеевича Воробьянинова, губернский центр
Старгород, прославившийся созданием «Союза меча и орала»,
безымянные поселения, подносившие Но, пожалуй, самый невероятный город — это Колоколамск, возведенный в 1929 году на страницах журнала «Чудак». Он вполне соответствует определению Ильфа: «Путешествие в страну идиотов». Незавершенный цикл колоколамских историй с поистине босховскими фигурами его персонажей — самый дальний экскурс писателей в мир гротеска, причем гротеска мрачного, несмотря на забавность придуманных коллизий. «Это своего рода «заповедник глупости и невежества», — как справедливо заметил Борис Галанов.
Нет смысла пересказывать то, что вы прочтете сами. Важно постараться понять, почему Ильф и Петров никогда не переиздавали рассказы цикла, кроме наиболее «невинного» — «Синего дьявола». На этот счет есть только одно авторское свидетельство, лишь умножающее число вопросов. В плане книги «Мой друг Ильф» Евгении Петров пометил: «Мы пишем историю Колоколамска и Шехерезаду. Творческие мучения. Мы чувствуем, что надо писать Критика того времени об этой работе сатириков вообще молчала. Ее как бы и не было. Однажды, уже в 1945 году, справедливость попытался восстановить Виктор Ардов (Знамя. № 7), назвав колоколамскую эпопею «превосходным циклом новелл». Иначе думали через пятнадцать лет авторы монографий. Л. Яновская: «…цикл в целом оказался неудачей… Он оставляет гнетущее впечатление». А. Вулис судит мягче: «…колоколамские новеллы, несмотря на многие свои недостатки, стали для сатириков школой на пути к «Золотому теленку». По Б.Галанову: «прием нарочитой изоляции Колоколамска от окружающего мира… вряд ли можно назвать удачным». Представляется вот что «Двенадцать стульев», с которых они начали, определили их склонность к динамичному сюжету, частой смене впечатлений, можно сказать, особую охоту к перемене мест. Характеры главных персонажей развертывались по мере стремительных перемещений и в зависимости от них. Колоколамск же (как и Пищеслав в «Светлой личности») предполагал движение не вдаль, а вглубь, заранее заданную усидчивость его обитателей, неподвижность их умов. Они не искали приключений и ни к чему не стремились, наоборот, приключения искали их. Статика болотного существования колоколамцев вошла в противоречие с темпераментом авторов, выдумавших этих непуганых идиотов.
Впрочем, по существу мы имеем дело с двумя разными героями, носящими одно имя. Остап эпохи «Двенадцати стульев» — при всем его остроумии и живости фантазии — был не более чем веселым, нахальным жуликом, близким «блатному миру». Он не брезговал грубыми приемами и позволял себе пошловатые шутки. Особенно это заметно по тем фрагментам, которые позже были сокращены авторами. Чего стоят хотя бы его игра в «три листика», его жаргон люмпена.
Бендер в «Золотом теленке» — прежде всего человек сильного интеллекта. Остроумие его теперь окрашено некоторой горечью. Он философствует, он временами, как уже было сказано, даже лиричен. Ильф и Петров не только наделили его собственной эрудицией, но и сделали рупором близких им идей. Вероятно, половину того, что говорит
Остап — как Булычев — родился не на той улице. Его натура свободного художника протестовала против мелочности окружения, против тех, кого классики в свое время назвали окуровцами и глуповцами. Попади он ненароком в Колоколамск, город был бы перевернут вверх дном. Не стоит делать из него мятущегося байронического героя, но не стоит также и считать Бендера лишь выдающимся авантюристом, призванным попутно веселить публику. Перед нами предстает талантливый, незаурядный человек, находящийся в разладе с эпохой и выбравший такой путь, может быть, как раз В начале романа он сообщает испуганному таким заявлением Балаганову:
«У меня с Советской властью возникли за последний год серьезнейшие
разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить
социализм». Но точно так же скучно оказывается ему и быть миллионером.
Он придумывает фантастические проекты, свойственные скорее Манилову,—
взять и построить, например, особняк в мавританском стиле. Зачем этот
особняк ему нужен, он и сам не может сказать, но здесь все же есть некая
точка для приложения энергии. Бендер не представляет ясно, чего он хочет
для себя, ибо вряд ли можно серьезно полагать, что предел его мечтаний —
прибавить свою особу к миллиону гипотетических счастливцев в белых штанах,
разгуливающих по кажущемуся из Арбатова сказочным Мне кажется, что фильм Михаила Швейцера «Золотой теленок», вышедший двадцать лет назад, тот Остап Бендер, каким представил его Сергей Юрский, точно передают эту грустную интонацию веселого романа. И, повторю еще раз, финал, предложенный Ильфом и Петровым, продиктованный обстоятельствами времени и места действия, неизменно кажется мне сомнительным, подчиненным не логике блестяще разработанного характера, а тому, что было искренне принято ими за эталон социальной справедливости.
Однако мы опять отвлеклись. Обратимся к колоколамской хронике. То, что при жизни авторов она никогда не переиздавалась, весомый аргумент для предположения, что этот цикл взыскательные авторы сочли — справедливо или несправедливо, другой вопрос —
Обобщения становились опасными. Тезис о «победе социализма», внедряемый в сознание масс в тридцатые годы, тезис лживый, ибо до победы и сейчас еще далеко, под прикрытием которого совершалась подмена демократии автократией, тем, что теперь называют Тем более что была свежа в памяти (затронутая и Ильфом с Петровым в фельетонном отчете «Три с минусом») кампания расправы с Б. Пильняком за опубликование повести «Красное дерево», тоже осмеивающей — но горько, в ином ключе — дикую смесь нового и старого провинциального быта, кампания не первая и не последняя. Методика яростного литературного погрома, отработанная еще тогда, уже на нашей памяти была использована против Б. Пастернака, «Нового мира» и других писателей и органов печати. Учитывая вероятность давления на авторов извне, несомненные литературные достоинства колоколамского цикла, его сатирическую остроту, во многом сохранившуюся и поныне, я бы не стал сейчас выставлять отметку писателям в придуманном некогда табеле успеваемости. Современники чаще всего судят о писателях, живущих рядом с ними, придирчивее и категоричнее, чем потомки,- кроме, разумеется, тех случаев, когда в этот процесс вторгаются соображения внелитературные. Многие критики так и не поняли до конца своих дней, что они были согражданами великих — Булгакова, Зощенко, Платонова. Да и Ильфа с Петровым далеко не всегда понимали глубоко и полно. В одной из первых рецензий на «Двенадцать стульев», подписанной
инициалами Л. К. и напечатанной в «Вечерней Москве» (1928,
21 сентября), говорилось: «…читателя преследует ощущение
Остается только грустно усмехнуться по поводу такого прогноза, и на этой ноте завершить разговор. Из статьи М. Долинского «Будни сатиры» |
 |
|
 |